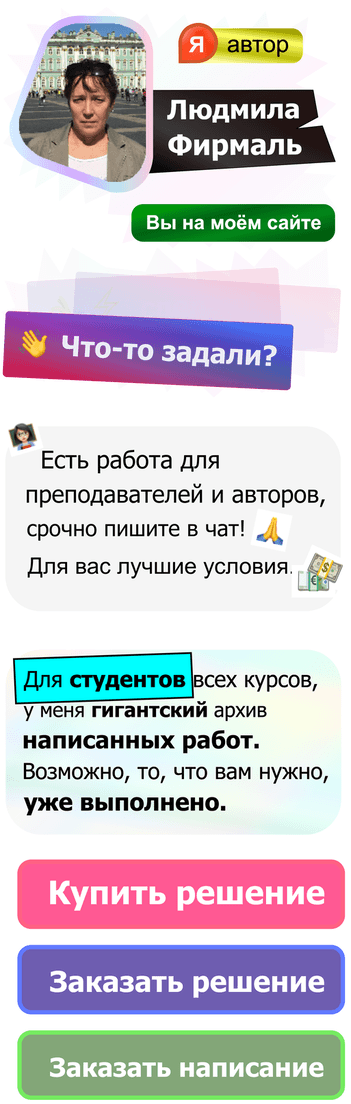Оглавление:
Аристотель в «Политике» делает вывод: «Природа государства предшествует природе семьи и личности: необходимо, чтобы часть предшествовала целому». И примерно в то же время и примерно то же самое сказано в «Великой доктрине»: «Тот, кто желал явить перед миром духовную силу, т.е. таинственную духовную силу, полученную с небес, от древних до того, как он научился править своим состоянием. Тот, кто хотел управлять своим штатом, сначала установил порядок в своей семье. Тот, кто хотел установить порядок в своей семье до того, как он научился управлять собой. Тот, кто будет управлять собой, должен сначала привести свое сердце в порядок. Тот, кто хотел привести свое сердце в порядок, сначала сделал свои мысли искренними. Тот, кто хотел сделать свои мысли искренними, должен был сначала открыть свой разум. Открытие разума зависит от понимания вещей.
Когда вещи осмысляются, разум раскрывается. Когда разум раскрывается, мысли становятся искренними. Когда мысли становятся искренними, сердце становится правым. Когда сердце становится правильным, человек владеет собой. Когда человек владеет собой, в семье устанавливается порядок. Когда в семье устанавливается порядок, государство надлежащим образом управляется. Когда государство правильно управляется, Царство Небесное живет в мире».
Трудно не заметить разницу в подходе к вещам, в понимании целого. В одном случае существует зависимость частей от целого, приоритет целого; в другом — отсутствие такой зависимости, иной вид связи: «природа государства» — это природа семьи, а семья — это природа индивида, а природа индивида — это природа его сердца, одна обусловлена другой. Сердце — регулятор вселенной. Именно в сердце закреплены «пять констант» (У-чан), а когда сердце неискренне, люди не действуют по «пяти константам», а когда люди не действуют по «пяти константам», государство не управляется должным образом.
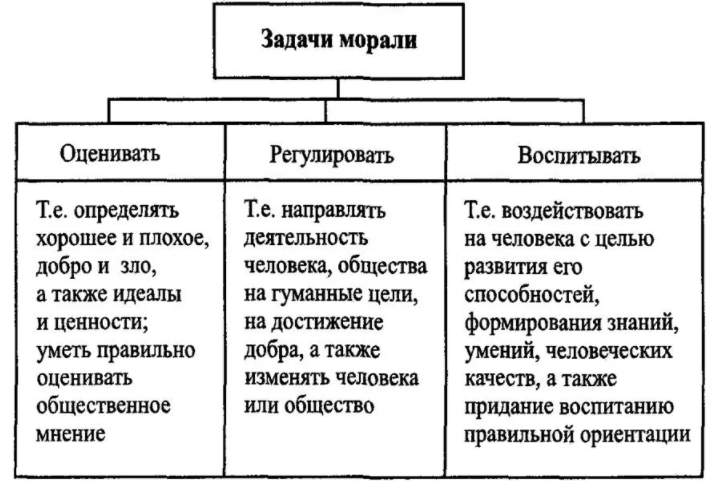
Великое Учение
Почему «Великое Учение» относится к примеру древних? Относительно этого отрывка Чжу Си говорит: «Небеса посылают совершенных людей, чтобы научить людей раскрывать свою первозданную природу, свои пять констант». Действительно, рядом с min de, которое я перевел как «духовная сила», в тексте встречается слово min, означающее «прояснить», «раскрыть». Но выявить можно только то, что уже есть.
И греческий философ, и китайский мудрец — каждый унаследовал свой образ мышления. Понятие части и целого возникло в Древней Греции в контексте рационализации сознания, когда возникло понятие цели, целесообразности. Если есть «начало», то должна быть конечная цель. «Самосец Пифагор, сын Мнесарха, — говорит Этий, — первый, кто назвал философию этим именем, распознает как начальные числа и пропорции, содержащиеся в них, которые он также называет гармониями; элементы, которые он называет геометрическими, он рассматривает как состоящие из этих и других начал». Снова он берет в начале монаду и бессрочную диаду. Одно из оснований с ним стремится к действующему и конкретному основанию, которым является Бог — дух, другое ссылается на основание, которое страдает и является материальным, которое является видимым миром». И тот же Этий говорит: «Ничего не рождается без причины, но все рождается на каком-то основании и в силу необходимости» . Согласно Аристотелю, подчинение частей в целом обусловлено энтелекией, выражающей целевую причину. Чжуанцзы же утверждал: «Нет ничего более целостного, чем небо и земля». Но есть ли у них честность, потому что они ее достигают? Тот, кто знает великую целостность, ничего не достиг, ничего не потерял, ничего не оставил. Ничего не меняется из-за вещей, возвращается к самому себе и становится неисчерпаемым».
Внимательного взгляда на древний китайский и японский текст, с его нисходящими вертикальными линиями, где иероглифы не соединены, где каждый иероглиф, самостоятельная сущность, имеет свое особое положение в системе, достаточно, чтобы понять, как по-разному китайцы и греки видели вещи.
Нет никакой разницы в дедуктивном и индуктивном взгляде на вещи. С точки зрения традиционной китайской и японской мысли, ни часть, ни часть не предшествует части, и нет никакой «части», есть целое. Внутри зерна — вселенная.
Целое — это одно, целое — это обширный организм, благополучие целого может влиять только на его отдельные клетки, а благополучие одной клетки влияет на состояние целого. Через все круги человеческого общения проходит нить, которая соединяет все с сердцем — с центром вселенной — и с центром каждого отдельного существа. Помните: «Если у вселенной есть сердце, то каждое сердце — это вселенная». Опять же, моноцентрическая модель. Интровертный тип отношений инь-ян породил самобытие, идентичность индивида, структуру «один во всем и все в одном». Это чувство универсально. Н.И. Гнедич в предисловии к своему переводу «Илиады» писал, что необходимо поставить себя в эпоху Гомера, стать его современником, жить со своими персонажами, чтобы хорошо их понимать. «Тогда мир, просуществовавший три тысячи лет, не будет мертв и чужд нам во всех отношениях, ибо сердце человеческое не умирает и не изменяется, ибо сердце не принадлежит ни народу, ни стране, но общее для всех; оно бьется с одними и теми же чувствами, варится с одними и теми же страстями, и говорит на одном и том же языке, как прежде».
Строго говоря, ни понятие части, ни понятие целого не применимы к традиционной системе японской мысли. По мнению Судзуки, принцип «один в одном и все в одном» не может быть логически оправдан и доступен только мудрости, прайне, когда разум не прибегает к каким-либо определениям. Эта особенность буддийской мысли не могла не привлечь внимание Ф.И. Щербацкого: «Вообще, в вопросе об отношении целого и его частей друг к другу буддизм считает, что реальное, истинное существование можно отнести только к частям, и только к таким частям, которые сами по себе не состоят из частей, то есть атомов, неделимых частиц. Материя состоит из материальных атомов, а душа — из духовных атомов. Подобно тому, как в куче зерна не больше зерна, из которого оно состоит, так и в духовном человеке точно не больше, чем отдельные элементы души или явления, из которых оно состоит. Только наша привычка, или ограниченность нашего познания, приписывает отдельное существо целому». Но буддисты говорят: вселенная содержится в одном зерне.
Обратим внимание на выражение мысли в греческих и китайских текстах, на различия в закономерностях и расхождения в способах доказательства. Нить причины и следствия в «Великих Учениях» разматывается то тут, то там, как волан на ткацком станке. Как я уже говорил, язык Конфуция — это не поток из одной вещи в другую, а движение вперед и назад.
Манера говорить Конфуция — это своего рода стереотип, который сохраняется на протяжении веков. Точно так же сказал Чжу Си: «Если не начать с Да сюэ, ухватив самое основное, не уловить тонкости и глубины Лунного Юя и Мэн-цзы; если не обратиться к Лунному Юю и Мэн-цзы, пройдя через них, не дойти до Чжун-юна; а если не дойти до Чжун-юна, как можно понять Великое Основание, прочитать книги Небесного Царства и задуматься о делах Небесного Царства? «(цитата из. Опять же — то, что следует, не следует из того, что предшествует, а возвращается к тому, что предшествует.
Проявление структуры мышления
Древние китайские тексты раскрывают структуру, основанную не на линейных причинно-следственных связях, когда последовательность следует из предшествующей, а на природе связок, когда последовательность возвращается к предыдущей и встречает предшествующую. Во взаимном движении мысли следующие и предшествующие взаимопроникают и образуют двусторонний вид связи по модели инь-ян: один присутствует в другом.
Но если все одно, «ты один с ним», то чем отличается одно от другого, как происходит процесс развития, который немыслим без разницы? По словам Махаяны, уникальность каждой формы обусловлена ее особым положением в системе, ее уникальным способом связи с другими формами или уникальным сочетанием причин, которые привели ее к возникновению. Буддизм отвергает идею существенности бытия; феноменальный мир существует благодаря закону универсальной обусловленности, причинного происхождения (pratitya samutpada): «Мы имеем образ мира как волнообразный океан, в котором, подобно волнам из глубины, откуда-то постоянно исходят отдельные элементы жизни». Эта волнистая поверхность, однако, не является хаосом, а подчиняется строгим законам причинности….. Эта доктрина «созависимого рождения элементов» является самой центральной точкой всего буддийского мировоззрения».
С точки зрения большинства махаянских школ, вещи несущественны, пусты (шуня) и не имеют никакой самооценки. Нагарджуна в доктрине «пустота» («шуньявада») или «Средний путь» («мадхъямика») отрицал идентичность («свабхава») любой вещи и считал ее существующей только по отношению к другим вещам. Особое отношение всех вещей ко всем вещам привело к особой структуре: «одно в одном и все в одном».
В Сутре Аватаншака вселенную сравнивают с огромной паутиной драгоценных камней и кристаллов, сверкающих на восходе солнца, каждый из которых отражает все остальные. Это Дхармадхату — вселенная. Его закон не сводится к простой материальной причинности, а является самой реальностью, которая выше бытия и небытия. «Как день не является причиной ночи, так и ночь не является причиной дня (хотя они постоянно сменяют друг друга) — такова природа дхармадхату. Эта высшая, изначальная причинность — внутренняя, а не внешняя. Можно сказать, что слияние всех вещей является причиной каждой вещи. Все зависит от закона, так же, как день и ночь зависят от вращения Земли».
Такая связь, с одной стороны, дает каждой вещи возможность быть самой собой, быть непосредственно связанной с Абсолютом; с другой стороны, делает каждую вещь зависимой от высшей цели. Эта штука связана в системе и обречена подчиняться ее законам. Нет никакого расстояния между миром и вещью, между человеком и миром, которое позволяет свободу выбора. Любая надежда на завоевание, преодоление или независимость от природы воспринимается как простая иллюзия, невежество (avidya).
«Сутра Аватаншака» сходится с древним китайским учением, признавая не прямую зависимость вещей друг от друга, а их общую зависимость от высшего дела, от Закона Единого. Сближение, сведение вещей к одному закону, который является причиной каждой вещи в отдельности, делает возможным поддержание мирового порядка, равновесия вещей.
Доктрина японской буддийской секты Кегон
Секта Кейгон проповедует единство поистине реального и феноменального миров: ри и джи — «два колеса колесницы», и все формы жизни развиваются от их единства. Джиджимуге означает, что все вещи в феноменальном мире плавно перетекают друг в друга.
Абсолют не существует сам по себе, но полностью присутствует в каждой вещи, делая ее целым микрокосмом, связанным с самим собой. Кокоро — это точка соприкосновения с Верховным. Моноцентрическая модель (в каждой вещи — ее центр) привела к конкретному пониманию состояния самих вещей. Чжуанцзы говорит: «Вещи легкие, мимолетные, но у каждой из них есть своя сущность; ни в древности, ни в наши дни не сменяют друг друга — нельзя умалять ничего». Конечной целью китайского учения является интеграция одной природы, изначально присущей всем (что изначально хорошо).
Дхарма — это и космический принцип, и «субстрат» каждой отдельной вещи, высший безличностный закон вселенной и состояние ума индивидуума. Каждый случай имеет свою собственную дхарму. Как сказано в Дхарма Сангити Сутре: «Будды рождаются с Дхармой, и их слияние — это Дхарма. И все вещи, земные и неземные, рождаются с помощью Дхармы, идущей от Дхармы….. Дхарма едина для всех существ, в ней нет различия между низшими, средними и высшими существами. Дхарма неделима» .
Все без исключения существа, без исключения, согласно «Аватаншака Сутре», обладают Буддой-природой; каждое из них связано со всеми другими; каждое существование содержит в себе существование других. Каждый идет своим путем к освобождению, но, спасая себя, он спасает других; спасая других, он спасает мир, с которым он связан неразрывными узами. Это основная идея Махаяны. Акцент на универсальности сочетается с акцентом на индивидууме: Каждая мелочь — это микрокосм.
Дао — это универсальный, космический закон и путь каждого отдельного существа. У каждого есть свой Тао. Сходная связь Единого и Единого раскрывается в первом абзаце Дао Тэ Цзин: «Явленный Путь (или Путь, который может быть Путем.) не является постоянным Путем»
Но сначала Дао выражается не только в словах, но и буквально во всем. Во-вторых, этого нет в тексте. В-третьих, если бы Лао-цзы действительно так думал, его трактата не существовало бы. Лао-цзы говорит о том, что все видимое и слышимое, весь феноменальный мир, это не истинное Дао, а его проявление. Между истинным Дао и феноменальным, однако, нет ни разрыва, ни расстояния; они едины: постоянное Дао пусто, не имеет форм, но формирует все и не существует вне мира форм.
(Такая формулировка вопроса недопустима с точки зрения формальной логики: «Невозможно одно и то же быть и не быть присущим в одном и том же смысле» , но с точки зрения диалектической логики она приемлема).
Конечно, эта структура не могла быть унаследована иначе, чем от философов Сунга. С их точки зрения, по мнению Н.И. Конрада, закон (li ) — это не какая-то «особая сущность, из которой исходит все сущее, а нечто, что существует в явлениях самого бытия — нечто, что делает каждое явление тем самым явлением, т.е. создает его «природу». Таким образом, было провозглашено единство «закона природы» (Li ) и «природы вещей» (греха). Насколько эти понятия стали репрезентативными для всей мысли философов Сунга, показывает наиболее популярное название их доктрины: xinglixue — «доктрина естественного права и природы вещей» . И нео-конфуцианский закон ли (яп. ри) полностью присутствует во всех вещах. С тенденцией к интеграции общего, без акцента на индивидуальность, уникальность человека, было бы мертвой идентичности.
Поскольку развитие вещи происходит за счет ее внутреннего источника, зависит от нее самой, то существование любой вещи не связано напрямую с существованием других вещей, т.е. вещь не нуждается во внешнем влиянии или противодействии для своего развития, ибо она развивается сама по себе.
Ибо «это то, что», «один во всем и все в одном». Вселенная — это один живой организм; каждая вещь сразу же переживает состояние целого. Такая зависимость части от целого (часть есть целое) создает своеобразную структуру, которую можно несколько охарактеризовать словами Гегеля: «Аналитик, как говорит Лаплас, полностью отдается вычислению и упускает из виду задачу, т.е. общий обзор и зависимость отдельных моментов вычисления от целого».
Необходимо понимать не только зависимость сингуляра от целого, но и то, что каждый момент является самостоятельным, независимым от целого. Это углубление предмета» . Английский синолог Дж. Нидхэм называет традиционный китайский принцип общения «неиспользованным», осуществляемым по принципу «эха», взаимным «ответом» вещей «одного вида» (tun lei ).
И древние греки, и средневековые мыслители отстаивали идею идентичности макромира и микромира. Николай Кузанский говорил о совпадении «абсолютного минимума» и «абсолютного максимума» — всего мира. А монады Лейбница — это «сжатые вселенные». Но для китайцев и японцев принцип неделимости вещей на отдельные части, идея микромира, с древних времен воспринимается как само собой разумеющееся. (В Японии синтоизм через веру в индивидуальное существование ками — в каждой вещи есть божество — уже готовил осознание идеи микромира).
Монада (греческий monos, «единица» — название единицы среди древних греков) однозначна; это . Монады Лейбница — первичный духовный элемент, «маленький мир», «единство бытия», но у них «нет окон» в окружающий мир, т.е. они не связаны законом мироздания. И хотя монады являются «зеркалом нерушимой вселенной», отражающим отношения всего мира, они нуждаются в участии извне, «гармонии, данной Богом». Согласно китайскому учению, микромир и макромир — это недуманное явление, все имеет структуру инь-ян, внутренний источник развития.
Идея Демокрита «like tends to like» близка к китайской идее о том, что вещи «like kind» (tun lei) привлекают друг друга, но греки придумали причинно-следственную, целеустремленную связь. С другой стороны, китайцы развили идею «причинности» в универсальную систему, в которой мир представляет собой огромный организм, спонтанно развивающийся континуум, в котором все соотносится по модели инь-ян. Все работает вместе в служении друг другу, каждая вещь, обладающая относительной свободой, играет свою роль в соответствии со своим положением в системе, «ни до, ни после других». Эта точка зрения, по мнению Дж. Нидхэма, согласуется с современной наукой. На самом деле, идея континуума естественным образом вытекает из идеи непрерывности, неduality, понимание небытия как потенциального существа.
Американский ученый Д. Бодде также пишет об особом виде связи одного с другим в китайских учениях: «Этот вид притяжения следует рассматривать как таковой, который возникает по природе спонтанной реакции (реакции одного струнного инструмента на другой того же шага) или по природе взаимного притяжения (притяжение между железом и магнитным железом), а не по природе механического импульса (удара одного бильярдного шара о другой)».
Очевидно, что такие отношения не только противоречат обычным категориям времени и пространства, абстрактным и конкретным, но и упраздняют очевидный разрыв между миром человека и миром природы. Фактически эти два мира фактически сливаются и образуют единый континуум, половинки которого настолько тесно переплетены, что малейшее напряжение или деформация в одном самопроизвольно производит соответствующее напряжение или деформацию в другом».
Вспомните Лао Цзы: «Небесный Дао — это как напряжение лука. Когда его верхняя часть опускается, нижняя часть поднимается». Все в природе настолько взаимосвязано, что малейшие колебания не проходят.
Природа структуры действительно может быть отражена только в категориях времени и пространства. Оба они имеют тенденцию сжиматься обратно к точке, к центру круга, исчезать совсем, потому что идеальным состоянием является небытие времени и пространства. Если разум настроен не препарировать, не разбивать целое на части, то естественно должно было возникнуть понятие времени как «вечного настоящего» (нака-ма) или «абсолютного настоящего».
Так что если структура мысли является определяющим элементом, если это взгляд человека на мир, то мы должны найти его во всех видах человеческого существования, будь то формы социальной жизни, психология или статус индивида, потому что человек создает то, как он видит мир.
В «Индивидууме в махаянской философии» Уэда Ёсифуми говорит о статусе индивида на Востоке: «Если мы предположим, что множество людей — это не только совокупность индивидов, но именно совокупность, отрицающая индивида, то общество основано на отрицании индивида».
Каждый человек должен быть готов отказаться от своего благополучия, если этого требует благо общества. Это значит, что один — это все, а все — это отрицание одного. Это означает самоотречение или отсутствие субъекта (анатмана «не-самого себя») и существование общества или исторического мира.
Фа-цан, буддийский мыслитель
Если один представляет все, то каждый индивидуум, соответственно, является центром Вселенной. Если А — хозяин, то все остальные индивидуумы и природа, весь мир — его вассалы. Но А — вассал В и С, так что каждый индивидуум одновременно и мастер, и вассал. Эта двойственность влияет не только на социально-психологический статус человека, который чувствует себя и хозяином, и вассалом, но и на его моральный статус. Не случайно идеал самурая символизируется «мечом и хризантемой». Беспокойство и мягкость. В очередной раз мы имеем дело с моноцентрической моделью, самоконцентрацией, которая позволяет индивидууму чувствовать себя центром Вселенной, не чувствовать прямой зависимости от окружающих его людей, и в то же время чувствовать абсолютную зависимость от общей системы с ее правилами, которые не допускают никаких отклонений.
Такая структура прослеживается в Дзен. Можно сказать, что в Дзен принцип «один в одном и все в одном» получил наивысшее выражение. С точки зрения Судзуки, в Дзэн каждый человек является абсолютной сущностью и через существование пустоты (сюня) может в полной мере осознать свою истинную природу, то, что он есть в его глубине. (Но не случайно японцы развивают групповую логику, которая не позволяет индивидам проявлять свою индивидуальность. Не случайно, что они ставят фамилию на первое место, а имя — на второе; акцент делается на семейной, племенной черте. Общее — на первом месте, индивидуальное — на втором).
Трудно переоценить важность этой проблемы. Сегодня она не только не потеряла своей актуальности, но и, осмелюсь сказать, что мы не поймем ни одного современного мыслителя Китая или Японии, какими бы взглядами он ни руководствовался, не зная основ традиционного учения. Например, как можно понять книгу Судзуки Тору «Мир эхообразного бытия» (1967) без понимания «некаузальной связи», интравертной природы противоположностей? «Эхо трансцендентной пустоты распространяется, как круги на воде, от материи к жизни, от жизни к разуму и обществу» ….. Мир отголосков — это мир истинного единства людей, мир гармонии свободной любви, в котором «Я» и «Ты», опосредованные вещами, обитают в трансцендентном ничтожестве, в абсолютной пустоте, в ничтожестве. Она образует «истинное сообщество» как «сообщество» «Я» и «Ты», объединенные вещами и пустотой» (цитируется в ). Подобные рассуждения не свойственны языку философа, близкому к японской форме экзистенциализма; они вытекают из более или менее распространенного в Японии понимания небытия как потенциальной возможности бытия. Таким образом, речь идет не о позиции того или иного автора, а об универсальности мысли, без понимания которой невозможно приблизиться к решению проблем современной науки и практики.
Научная мысль признает целостный, структурный подход к изучению объектов любого рода в любой области научного знания, будь то философия, экология, генетика или психология. Наука стремится преодолеть антиномию целого и части. Отсюда повышенный интерес современных ученых к традиционным восточным учениям.
Структура мышления
Начнем с музыки, самого «абстрактного» искусства, и увидим, что все элементы традиционной модели мира присутствуют в теории китайской и японской музыки. Двенадцатицветная шкала, соответствующая двенадцати месяцам года, состоит из двух «взаимопроникающих аккордов» — инь (минор) и янь (мажор). Пять музыкальных тонов китайской пентатонической системы соответствуют пяти элементам, пяти константам, пяти планетам, пяти цветам и др. При создании музыки «пять констант» находятся в равновесии. По наблюдению Н.А. Иофана, «теория китайской музыки в Японии базировалась на широко распространенном в странах Древнего Востока принципе признания определяющей роли одного звука, т.е. тональности, взятой в единственном числе». В этом и заключается фундаментальное различие между теорией музыки большинства древних восточных стран и теорией древности, где мелодический поворот отводится ведущая роль».
Грубо говоря, европейская музыка — это нечто, созданное человеческим воображением, построенное и реконструированное в соответствии с разложением целого, аранжируя звуки в соответствии с идеей линейного движения. И. Мацца пишет: «Закон равновесия возник из определенного ритмического расположения частей, которое отличается от простой симметрии тем, что здесь мы имеем динамические отношения в виде увеличения или уменьшения частей в линейных, плоских, объемных и весовых, звуковых и, наконец, в семантических отношениях.
Так, например, в музыке постепенно развивались системы режимов, а в поэзии — метрические системы, которые, как и музыкальные режимы, приобретали для каждой системы смысловое значение и эмоциональную окраску».
В этом и заключается фундаментальная разница между структурами. Некоторые не разделяли и не собирали части в единое целое, музыкальный образ развивался из точки, из одного звука, или, как говорится в старейшем китайском музыкальном трактате Юэцзи, «из сердца человека», по моноцентричной модели, и это придавало единственному звуку эгоцентричный иероглиф. Другие разделили его, чтобы снова собрать вместе, но в своем порядке, в соответствии со своим собственным представлением о гармонии, создавая таким образом нечто новое и независимое существующее — «вторую природу».
Иван Вандор, итальянский композитор и музыковед, говорит о тибетской буддийской музыке: певцы ян «с глубокими, гортанными голосами, очень медленно читают слоги….. Вероятно, это как-то связано с тантрическим представлением о том, что чем глубже звук, тем он «несущественнее» и ближе к тишине». Удивительным результатом такого обучения является то, что в дополнение к основному тону, голос получает возможность создавать дополнительные обертоны, и каждый певец становится, так сказать, человеческим хором.
Однако эта техника пения не является исключительной для Тибета: нечто подобное встречается и в Монголии, и в некоторых регионах Сибири».
Часто пишут об импровизационной природе восточной музыки. На Востоке музыкант только приблизительно отмечает мелодию и учится музыке не читая ноты, а слушая учителя. Обучение на слух позволяет ему достичь редкого изящества. Японская классическая музыка передавалась из поколения в поколение безымянной, почти неизменной. «Музыкальная композиция может зависеть от погоды или сезона. Чтобы оценить эту музыку для себя, необходимо, по крайней мере, иметь представление о том, как каждый музыкант создавал свою уникальную музыку». Тенденция к музыкальной импровизации объясняется особенностями традиционного строя: исполнитель обращается к самому себе, что позволяет ему занимать в системе относительно свободную позицию, «ни до, ни после других», оставаясь при этом наедине с собой. Поэтому он не связан внешним знаком: отсутствием нот, свободой слова. Но он не может выйти за пределы круга, он не может прорваться через нормы обычного, что ограничивает воображение. И вот традиционное сочетание свободы и несвободы.
Отсутствие согласия между основами сочинения на Западе и Востоке изначально привело к нетерпимому отношению музыкантов. В «Вечерах в оркестре» (1853) Гектор Берлиоз писал о китайской музыке: «Мелодия, гротескная и даже весьма неприятная, заканчивалась, как и в каждом из наших самых вульгарных романсов, на фундаментальной ноте; ни разу она не отклонялась от заданной в начале тональности и гармонии». Дробный аккомпанемент, монотонный по своему ритмическому рисунку, был… в полном диссонансе с тонами голоса….. Музыка китайцев и индейцев, если бы она у них вообще была, напоминала бы нашу; но в этой области они живут в полной темноте варварства и младенческого невежества, через которые немногие неуклюжие и неуверенные в себе ученики едва ли могут прорваться. Народы Востока называют музыку тем, что мы бы назвали шумом» (цитата из). А Мухаммед Зерукки в своей статье об арабской музыке так описывает отношение восточного человека к европейской музыке: «Тот, кто привык ко всем музыкантам, играющим в унисон, как будто они читают стихи, озадачен этими пересекающимися, противоречивыми, наложенными друг на друга звуками». Его разум в смятении, пытаясь ухватить поток музыкальной фразы или звук конкретного инструмента, тщетно пытаясь разобраться в происходящем.
Западный оркестр для него не является единым целым; каждый музыкант, кажется, болтает на своем языке, совсем не заботясь о других и думая только о себе» . Тагор образно сравнивал музыку Запада и Востока: «Мир дня подобен европейской музыке: могучий поток широкой гармонии созвучий и диссонансов…. Но ночь — это индийская музыка, чистый, глубокий и нежный рага. Рага — это и «цвет, цвет», и «чувство, страсть», воплощенные в музыке. Структура раги рассматривалась древнеиндийскими учеными как идеальный способ организации звукового материала для создания соответствующего эмоционального эффекта . Оба типа музыки возбуждают нас, но несовместимы по духу. С этим ничего не поделаешь. Природа разделена природой: День и ночь, единство и разнообразие, конечное и бесконечное» .
Японские музыковеды на конференции ЮНЕСКО
«Культурные отношения между Японией и Западом за 100 лет», состоявшейся в Токио в 1968 году, выразили сомнение в возможности синтеза Запада и Востока в музыке именно потому, что японская традиция уже давно рассматривает человека как часть природы, в то время как западная — как демиург, способный сгибать природу под свою волю. И все же больше людей верят в возможность и пользу синтеза. Процесс взаимопроникновения в каждой сфере духовной жизни становится реальным, потому что люди сами начинают видеть вещи по-другому, происходят изменения внутри художественных систем. Европейские композиторы, такие как Бела Барток, близки к японской музыке, потому что они отошли от системы гармонии и освободили звук, как он есть.
По мнению современного композитора Тору Такэмицу, европейская музыка отличается от японской как абстракция от бетона (его собственные произведения называются «Музыка воды», «Музыка дерева» и т.д.), но можно совместить эти два мира. Люди меняются, преодолевая односторонность и тщеславие, и это первое условие сближения. Хотелось бы вспомнить слова Дмитрия Шостаковича: «Для меня далеко не все ясно о так называемой «несовместимости» модальных и гармонических систем мышления, о «гармонии или выгоде», которая вносит в культурное наследие Востока приемы полифонического или гармонического развития, присущие музыке Европы.
Однако я твердо убежден в правильности тезиса о фундаментальном равенстве всего многообразия национальных музыкальных традиций, всего накопленного богатства мелодий, ритмов, тембров, тончайших поэтических откровений перед лицом человеческой культуры….. На мой взгляд, вопрос не в «совместимости» или «несовместимости» различных музыкальных систем, а в том, как и какими методами решается проблема взаимодействия и взаимного влияния культур этнографически и географически разных народов. Здесь все решается художественным талантом и талантом музыканта-композитора, исполнителя, педагога, теоретика — его ответственностью перед искусством и творческой честностью».
В основе каждого вида японского искусства можно найти своеобразное соотношение между ним и сингулярным. Давайте возьмем самую старую категорию красоты, mono no avare. Этот термин переводится как «прелесть вещей» (в «Великом японо-русском словаре» он означает «прелесть вещей»). Моно — это «вещь», универсальный термин, знак единства мира; он относится не только к неодушевленным объектам, но и к живым существам, не только к живым существам, но и к абстрактным понятиям (если можно признать существование абстракции в этой системе мышления), таким как дхарма. Mono no avare — это одновременно и универсальное, и индивидуальное свойство любой вещи в отдельности. Моноцентрическая модель, склонность к сужению до точки («уменьшение», сужение до центра круга позволяет столкнуться с истинной реальностью), изначально разделила танканку на две части («верхняя» строфа — ками-но ку, или хокку, и «нижняя» — симё-но ку, или эйдэку) и привела к разделению верхних трёх строф (хокку) на стихотворения определённого типа. Эта же тенденция, сосредоточенная на одном, проявляется и в чайной церемонии, и в искусстве икебаны. «Одиночный цветок лучше сотни передает цветочную пластичность», — говорит Кавабата. Именно один субъект, фокус на одном, позволяет природе всеобщего проникать.
В прозе тоже интровертная модель привела к самофокусировке, к идентичности, к самостоятельному существованию отдельных разделов, танцам без прямой связи друг с другом (или соединенным способом, похожим на Аватаншака Сутра: каждый драгоценный камень отражает все остальные). Дэн — это буквально «шаг», горизонтальная линия в алфавите. Трудно найти подходящий перевод для этого слова. Это не «глава», поскольку не существует последовательной связи между датчанами, соединяющей главы, ни «параграф», поскольку параграф скорее подчинен общей программе. Именно литературное единство могло возникнуть только из японской традиции.
На странице рефераты по философии вы найдете много готовых тем для рефератов по предмету «Философия».
Читайте дополнительные лекции:
- Концепция «вечного возвращения» Ф. Ницше как философский миф
- Эстетика Шеллинга
- Разумная душа – ее смертность и бессмертие в арабо-исламской философии
- Возможность и действительность
- Джордано Бруно, итальянский философ – пантеист
- Философия Кирилла Туровского
- Движение как атрибут бытия
- Методологическое сомнение в философии р. Декарта
- Культурно-философская антропология
- Проблемы воспитания в этике Просвещения — Главные фигуры педагогики Просвещения